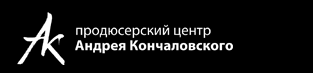«Свобода стоит недешево»
Отрывки из интервью в журнале «Искусство кино» (1989).
Этот разговор записан в феврале 1989 года. Датировка в данном случае существенна. Случись разговор на два-три месяца раньше или позже, какие-то из вопросов и какие-то из ответов были бы иными.
— Александр Липков: Предположим, вы никуда не уезжали, все эти годы жили в Москве. Как вы думаете, сложилась бы ваша жизнь? Чем бы вы занимались сегодня?
— Андрей Михалков-Кончаловский: Наверное, я бы снял пару картин, одна из которых скорее всего была бы о Достоевском. Наверное, я был бы втянут во все политические баталии, которые происходят в связи с переменами в общественной жизни и кинематографе. Наверное, я бы не набрался того опыта, который сейчас есть у меня. Не хочу сказать, что зарубежный опыт, чисто человеческий и профессиональный, лучше приобретенного на Родине — он просто другой.
— Что главное в приобретенном там опыте?
— Во-первых, я лишился иллюзии о западном образе жизни как о некоем феномене, противостоящем нашему. «Их» образа жизни не существует — есть бесконечное количество разных ментальностей, образов мышления, восприятий жизни, искусства, кинематографа. Итальянец от шведа или американец от француза отличается не меньше, чем русский от любого из них. Отсюда, я бы сказал, более дифференцированное ощущение мира: по-разному любишь разные нации и по-разному их не любишь. В каждом народе есть свое очарование. Все это время продолжало формироваться мое ощущение России и русского народа - вряд ли этот процесс был бы столь интенсивным, живи я дома. Не просто потому, что смотришь взглядом со стороны («лицом к лицу лица не увидать»), но еще и потому, что вводится новая точка отсчета. {...}
Мы же все привыкли к деформированной системе ценностей. Режиссер в России — борец, страдалец, диктатор, художник, артист. Он борется за свободу творчества, его давят. Чем больше давление, тем сильнее его ощущение собственной значительности.
А в Америке я понял, что никто обо мне ничего не знает. И мне надо доказывать, что я в состоянии склеить два куска пленки. Первой моей картиной была короткометражечка «Сломанное вишневое дерево», снятая за пять тысяч долларов. И за мной стояла продюсерша, следившая за каждым моим телодвижением. Но я был счастлив, как студент, уже оттого, что снимаю. Я дрожал от счастья, что мне доверили камеру, что могу доказать, что я — режиссер. И это после четырех серий «Сибириады», награды в Канне, контракта с французами, пусть он и лопнул. Но еще были три года безработицы. Мне было смешно смотреть, как продюсерша пытается контролировать ход съемки: в кино она понимала в сто раз меньше моего, но она отвечала за деньги, вложенные фирмой в фильм непонятного русского режиссера. Непросто оказаться в такой ситуации, осознать, что ты стоишь ровно столько и ничуть не больше. Тут-то и выясняется, кто ты есть, иллюзии испаряются, приходит иной взгляд на жизнь. {...}
— А не хотелось ли бы вам вернуться к прежнему своему состоянию, где вы сами все решали и за все отвечали?
— Я постепенно прихожу к этому желанию, но сначала хочу осуществить кое-какие из уже оформившихся замыслов. А в идеале хотел бы снять в Москве картину без сценария. Написал бы две странички, взял трех-четырех интеллигентных актеров, попросил бы какой-нибудь кооператив запустить меня в работу и сделал бы очень дешевую картину. Возможно, часть ролей отдал бы непрофессионалам, то есть вернулся бы к методике «Аси Клячиной», но строил бы все в манере хэппенинга. Я бы взял оперную «сыриху», артиста, настоящего певца из Большого театра и вместе с ними делал бы сцену, придумывая и репетируя ее прямо на площадке. А снимал бы спонтанно, чтобы герои не знали, когда репетиция, когда съемка. Иногда бы сам вмешивался в сцену, а потом в монтаже из всего этого делал фильм. Такой способ работы дает возможность исследовать характер, наблюдать его как бы изнутри. Но все это не раньше, чем через год-полтора — после того как сниму «Рахманинова». {...}
— Когда вы делаете ваши сегодняшние фильмы, пытаетесь ли вы как-то прогнозировать успех?
— Нет. Конечно, всегда хочется верить в успех. Но часто вспоминается фраза Годара: «Если хорошая картина пользуется успехом публики, значит, публика ее не поняла».
Картины мои кассового успеха не имели. «Возлюбленных Марии» хорошо смотрели в Европе, но в Америке их не знают. Как ни странно, все больше зрителей набирает «Поезд-беглец», но не в кино, а в видеопрокате. С кем бы я ни разговаривал, все видели картину, и именно на кассете. Фильм получил вторую жизнь. Это гигантское счастье, что появилось видео.
— Это две разные аудитории — те, кто смотрят кино и кто смотрят видео?
— Да, разные. И кроме того, фильм идет две, ну, три недели. Но чтобы картина набрала известность, нужно время — год или два. Фильма к этому времени давно на экране нет, а видео — всегда под рукой. Это интересный процесс — постепенное завоевывание зрителя. Огромное количество видеоклубов, специализированных, ориентирующихся на какого-то определенного зрителя,— разнообразие аудиторий стимулирует и разнообразие фильмов.
«Поезд-беглец», пожалуй, наиболее цельная из моих американских лент, сделанная на единой стремительной ноте. И у Куросавы был замечательный сценарий, и мы всерьез поработали, переделывая его, и Джон Войт во всем принял большое участие — может, поэтому «Поезд» так сложился в своей архитектонике, так слились воедино в его кульминации мысль, чувство, образ. Хотя там не удался весь комический ряд, который я хотел сделать легким, но не сумел. Мне не дали актера, который был нужен для сцен в диспетчерском центре. Не хватило тридцати тысяч на его гонорар и двух дополнительных съемочных дней. Но поскольку я профессионал, то обязан быть дисциплинированным. Продюсер должен чувствовать, что я забочусь о его деньгах, стараюсь не выламываться из бюджета картины. Раз я подписал контракт, что сделаю картину за такую-то сумму, то должен в нее уложиться. И если я что-то прошу, а мне говорят «нет», то, что ж, я соглашаюсь. А потом кляну себя. {...}
— Вы одновременно готовите два-три сценария. Это обычная методика вашей работы?
— Я мечтал бы найти сценариста, с которым можно было разделить профессиональные обязанности: он бы писал, я бы ставил. Завидую Абдрашитову, он нашел себе драматурга-соавтора. Что до меня, то только раз в жизни я читал сценарий, который хотел бы снимать, ничего в нем не переделывая. Это был «Выстрел в упор», написанный сыном Элиа Казана — Никосом Казаном. Блистательная работа! Ничего подобного с тех пор не встречалось.
Может быть, потому что у меня сложились какие-то свои представления о кинодраматургии, может, потому что мню себя в известном смысле писателем (хоть собственно художественной литературы никогда не писал), но меня чужие сценарии никогда не удовлетворяли. Наверное, лучше всего было бы найти какого-нибудь молодого человека с буйным воображением, совпадающим по типу с моим. Грубо говоря, найти человека с мозгами и подворовать у него мыслей.
— Каково место сценариста в американском кино? Более ли значима там эта профессия?
— Все зависит от конкретной фигуры. Свободный рынок подразумевает бесконечное сочетание и варьирование отношений. Есть сценаристы, производящие штучный товар. Это авторы, высоко зарекомендовавшие себя несколькими «суперхитами». Таков скажем, Роберт Таун, написавший «Китайский квартал», «Последний конвой». Он стоит полмиллиона долларов. За эти деньги вы получаете сценарий и делаете с ним что хотите. Есть сценаристы, которые умеют замечательно редактировать сценарии, «лечить» их. Это очень дорогая работа. К примеру, таков Дэвид Рейфил, сценарист Бертрана Тавернье, близкий друг Сиднея Поллака, написавший для него целый ряд оригинальных работ. Но если Поллак берет сценарий у кого-то еще, то все равно не приступает к съемкам, не отдав его предварительно Рейфилу и, соответственно, как следует не заплатив за шлифовку. Причем Рейфил часто даже не ставит в титрах своего имени — достаточно гонорара. Когда вручался «Оскар» за сценарий «Вне Африки» (всего картина их получила пять), Курт Людтке, принимая награду, сказал: «Я хочу поблагодарить Дэвида Рейфила, без него бы этой картины не было». Хотя нигде не было указано, что тот принимал в фильме какое-то участие.
Есть сценаристы, которых призывают для какой-то определенной части работы. Поэтому у сценария часто три-четыре-пять авторов. Один пишет, допустим, финал, другой — гэги, третий — диалоги. Сценарий становится результатом коллективной постройки: сначала кладут стены, потом вставляют окна, оборудуют лифт, подводят электричество, кроют крышу. Стоимость сценария при таком способе работы может доходить до миллиона. Каждый делает свое дело, получает деньги и уходит, не претендуя на авторство. Естественно, гильдия защищает его права, можно сравнить предыдущий вариант с тем, который сделал он, существует арбитраж.
В любом случае сценарист — фигура важная. Лично я считаю, что необходимо большее внимание к сценарной профессии, чем то, к какому мы привыкли. Нужна культура производства сценариев. От этого зависит культура всего кинематографа. Кстати, культурные сценаристы у нас есть — Павел Финн, Александр Червинский хотя бы.
Мне, к сожалению, ни тут, ни там найти себе такого соавтора, которому можно было бы дать идею и получить от него готовый сценарий, не удалось. Пока лучше всего работалось с Жераром Брашем, французским сценаристом, автором «Борьбы за огонь», «Тэсс». Правда, он настаивает на том, чтобы режиссер с ним постоянно сидел и разрабатывал всю драматургию будущего фильма.
Что наиболее характерно в мире профессиональных сценаристов Запада? Высочайшая ответственность за данное слово. Дисциплина. К примеру, я работал с Полом Шредером. Это живой классик. На его счету «Последнее искушение Христа», «Таксист», «Разъяренный бык», практически все картины Скорсезе. Мы с ним работали над американской версией фильма Элио Петри «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений», к сожалению, оставшейся непоставленной. Посидели три дня, оговорили сюжет. Он уехал. При следующей встрече рассказал мне всю картину по эпизодам, от начала до конца. Все было записано, эпизоды пронумерованы. Мы посидели еще два дня. Через шесть недель я получил сценарий. У меня было по нему много замечаний. Мы записали все по пунктам, сидели еще два дня, он, как портной, проверял каждый шовчик, чтобы на мне это хорошо сидело. «Здесь тебе не нравится? Хорошо, я поправлю. Этот эпизод у меня шесть страниц — уложу в четыре, иначе сценарий не вместится в сто двадцать страниц. Этот эпизод должен быть не длиннее страницы». И так до конца, по всем мелочам. Через две недели я получил окончательный вариант. Блистательный. Это была работа профессионала, отвечающего за каждое свое слово. Никаких споров, полное взаимопонимание. Режиссер знает, что ему нужно. Сценарист умеет понять, что режиссер хочет. Настроить свой талант на ту же волну. И это при том, что он уже классик. Мог бы мне сказать: «Да кто ты такой! Я же автор «Таксиста»!» К такому в отношениях с российскими коллегами мы непривычны. Об этом, кстати, писал еще Чехов. Описывая гастроли Сары Бернар, он более чем сдержанно высказался о ее таланте, а вот к труду, вложенному в роль, отнесся с восхищением. «Во всей ее игре просвечивает гигантский, могучий труд... Будь мы трудолюбивы там, как она, чего бы мы только ни написали... Наши артисты, не в обиду им будь это сказано, страшные лентяи! Ученье для них хуже горькой редьки... Поработай они так, как работает Сара Бернар, знай столько, сколько она знает, они далеко бы пошли!» Так с тех пор все в России и осталось. Таланта навалом, профессионализма никакого. {...}
Надо, чтобы фильм был художественным произведением и, сверх того, чтобы его купили. Свобода недешево стоит. Чем больше вы хотите свободы, тем меньше рассчитывайте на гонорары. Рынок предлагает художнику деньги в обмен на свободу. Одни это переживут безболезненно, сумеют приспособиться и к рыночной ситуации, а таким художникам, как Сокуров, придется сложно.
Рынок — вещь жестокая. {...}
Думаю, полезно было бы пять-шесть наших режиссеров и в особенности сценаристов, говорящих по-английски, послать поучиться в Америку, пожить там годик, постажироваться в американском киноинституте, на студиях, посмотреть, какие фильмы идут, что тамошний зритель любит, как принято строить сюжеты. Нам нужны свои «кинотолмачи». То, что некоторым нашим авторам кажется замечательным сюжетом для копродукции, там никому не нужно. А какой-то сюжет, который по нашим меркам считается ерундой собачьей, вдруг окажется перспективной затеей.
Американцы любят линеарную драматургию. Ретроспекции, многоплановость действия и прочие европейские сложности не для них. Им нужна ясность. Чтобы с первых пяти минут было понятно, за чем следить. Драматургический принцип простой, но благодарный. Думаю, Гайдай, живи он в Америке, был бы миллионером.
Подобные принципы вовсе не обрекают драматургию на примитивность. Возьмите лучшие американские сценарии, картины Скорсезе или Формана - они достаточно элитарны. Но компания в таких случаях ведет серьезнейшую стратегическую подготовку, старается заинтересовать зрителя задолго до начала съемок. {...}Допустим, разрабатывается стратегия выпуска «Амадея». Какая будет торговая формула у этой картины?
Нужно социологически просчитать, на кого она должна быть ориентирована, какие социальные группы может привлечь, кто из актеров отвечает интересам этих социальных групп. И находится формула: «Моцарт - первый хиппи. Панк». Поэтому герою делают розовый парик, стриженный под хиппона. Подобная формула, найденная по окончании съемок, была бы бесполезна — поздно уже что-либо менять. Тщательная, продуманная подготовка делает возможным прокатный успех достаточно сложных картин. Рекламная кампания обходится как минимум в тридцать-сорок процентов от стоимости фильма. Пять миллионов на рекламу — дело самое обыкновенное. {...}
Если же говорить не о коммерции, а об искусстве, то талантливый человек в любых обстоятельствах способен создать что-то достойное, хотя работать ему будет во много раз сложнее — по множеству причин. {...}
Впрочем, и художник так или иначе выбирает в жизни свою стратегию. Мне запомнились слова Эйзенштейна, писавшего Штрауху о том, что жареные гуси падают в рот только в сказках, что нужно самому расчищать плацдарм для проявления своей гениальности. Разве это не стратегия?
Беседу вел Александр Липков